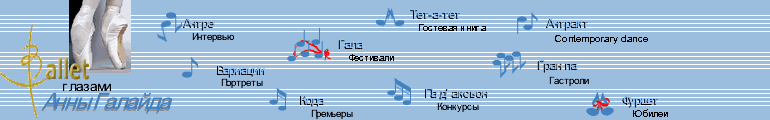| |
|
Марина Кондратьева:
"Если бы Семенова сказала встать на голову, я бы встала"
 Марина
Викторовна, у вас с Большим театром совместно прожита целая жизнь. Что
вспоминается прежде всего из этих 50 лет? Марина
Викторовна, у вас с Большим театром совместно прожита целая жизнь. Что
вспоминается прежде всего из этих 50 лет?
Помнится, конечно, в основном хорошее - начало творческого пути, мои педагоги,
репетиторы, с которыми я здесь встретилась. Разумеется, были и обиды,
и досады - это закон театральной жизни. Но я была балериной, теперь -
педагог. Моя судьба сложилась удачно, я бы не хотела себе другой.
Тем не менее, ни сын, ни внук не пошли по вашим стопам.
Да, весь удар профессии я приняла на себя. Мне очень хотелось, чтобы сын
занимался балетом - у него была стройненькая фигурка, с пряменькими ножками.
Но он отказался категорически. Если бы были необыкновенные данные, я бы,
конечно, настояла… А теперь нисколько не жалею, что он меня не послушал,
- сейчас нужно быть либо очень хорошим танцовщиком, либо искать какую-то
другую профессию.
Марина Викторовна, а почему отдали "в балет" вас?
Между прочим, в балет меня направили не мама с папой, а их коллеги - люди
науки: Николай Николаевич Семенов - лауреат Нобелевской премии, академик
Абрам Федорович Йоффе. Во время войны Ленинградский политехнический институт,
где работали мама с папой, был заместителем директора, эвакуировали из
Ленинграда, где я родилась, в Казань. И там мне пришлось участвовать в
какой-то самодеятельной бригаде папиного института. Мы ездили по госпиталям
и давали концерты для раненых: кто читал стихи, кто играл на рояле, -
каждый делал, что умел. И я что-то там приплясывала. Жена Семенова обратила
внимание на то, что я музыкальная, хорошо танцую. К тому времени уже было
известно, что после эвакуации институт переведут в Москву, поэтому Николай
Николаевич привез меня сюда показать в хореографическое училище.
Шел 1943 год. Мы пошли на Неглинку, где тогда располагалась школа. Но
занятия уже начались - был октябрь. И в это же время Николай Николаевич
случайно узнал, что в той же гостинице "Москва", где остановились
мы, живет Агриппина Яковлевна Ваганова. Она тогда приехала повидать сына,
который после ранения находился в Москве. Николай Николаевич зашел к ней.
Знакомы они не были, он представился: "Семенов, из Ленинграда. А
это моя родственница Марина. Привез ее поступать в хореографическое училище,
но мы опоздали". Агриппина Яковлевна велела мне пройтись, посмотрела
ножки. И сама повела меня в училище. Николай Иванович Тарасов, который
тогда им руководил, сказал: "Ну, коли вы рекомендуете…".
Несколько лет спустя я подошла к Агриппине Яковлевне, напомнила о знакомстве.
Она сказала: "Как же, конечно, помню - Марина Семенова". Только
тогда я поняла, почему Ваганова с такой готовностью нам помогла. Она решила:
коли я родственница Семенова и зовут меня Марина, значит, я - Марина Семенова,
как ее любимая ученица. И очень удивилась, когда узнала, что я Кондратьева.
Сейчас после хореографического училища в Большой театр попадают единицы.
А ваша судьба после поступления в училище была предопределена?
Что вы, все было очень сложно. Сейчас выработан точный график - артист
балета работает 20 лет, после чего уходит на пенсию. В 50-х такого жесткого
правила не было, многие артисты вообще могли двигаться только как миманс,
но уволить их не имели права. Поэтому после окончания училища, хотя официально
объявили, что меня приняли в театр, я с весны до октября ждала, когда
кто-нибудь уйдет на пенсию. Ходила в театр, репетировала, но все это было
без зарплаты, без трудовой книжки.
В первые же два года работы вы станцевали четыре главные партии. Театр
активно выдвигал молодежь?
Когда мы пришли в театр, было принято самостоятельно разучивать какие-то
вариации и показывать их руководству. Такая практика существует и сейчас,
только теперь для этого выделяется репетитор, а мы готовились сами, без
педагогов, без музыки. Вместе со мной в театр приняли Лену Ковалевскую
из параллельного экспериментального класса, ученицу Суламифи Михайловны
Мессерер. С ней вместе мы разучивали и показывали Камни в "Спящей".
На эти показы в первом репетиционном зале всегда собиралась вся труппа
- висели на станках, сидели под зеркалом. Настоящий муравейник. И приходила
комиссия: Лавровский, Захаров, Семенова, Уланова, Вайнонен - весь художественный
совет, все ведущие солисты. Потом была черновая репетиция, за ней оркестровая.
Я очень волновалась. Но самое страшное было танцевать не перед Улановой
и руководством, а то, что на меня смотрит вся труппа. Выйти на сцену было
гораздо проще - там все было родное.
Видимо, наша с Леночкой работа над "Спящей" понравилась, потому
что нам сразу дали спектакль. А вскоре мне позвонил по телефону Ростислав
Владимирович Захаров и спросил, смогу ли я за недели выучить Золушку -
что-то случилось, танцевать было некому. Я ответила: "Да, могу".
У вас был такой решительный характер или вы понимали, что балерине
он нужен?
Просто мне очень хотелось. Я даже не думала о последствиях. Две недели
мы с Тамарой Петровной Никитиной учили только текст трехактного балета.
Я сама понимала, что танцевать Золушку мне пока рано. И, я думаю, это
знали все, поэтому все же нашли опытную балерину. Но партию мне оставили,
я нормально ее выучила и станцевала через месяц. Этот спектакль стал для
меня трамплином - в нем меня увидел Якобсон и дал "Шурале",
а после этого я станцевала "Спящую", еще в редакции Асафа Михайловича
Мессерера, с фуэте в коде, и "Бахчисарайский фонтан" - Марию.
Театральная жизнь позже требовала от вас решительных поступков?
В те годы в театре очень следили за продвижением молодежи. Лавровский
вывешивал списки нашего "роста", и там всегда была моя фамилия
на какой-то новый балет. Сначала он дал мне "Ромео и Джульетту",
потом - "Паганини", я станцевала "Пламя Парижа", Диану
Мирель. Мне не приходилось бороться.
Кто был "вашим" хореографом, чьи спектакли соответствовали вашему
внутреннему состоянию?
Это был Лавровский. Хотя, скорее, кого-то одного назвать нельзя. Конечно,
"Ромео и Джульетту" я танцевала с такой отдачей, с таким вдохновением!
Я мечтала об этом спектакле, и когда со мной пришел репетировать сам Леонид
Михайлович, это было большим счастьем. С ним же мы делали "Паганини".
Это был первый спектакль, который ставился "на меня", мы вместе
искали какие-то прыжки, положения в адажио… Совсем по-другому работал
Захаров. Его "Золушка" труднее технически - в ней много вращений.
Но в него спектаклях тоже было много лирики, любви - того, что мне близко.
Спектакли Юрия Николаевича Григоровича были новым веянием в нашем искусстве.
Я очень любила его Катерину в "Каменном цветке" и Фригию в "Спартаке",
И, как ни странно, особенно мне дорог был последний мой спектакль - "Анна
Каренина". Жаль, что очень мало удалось его танцевать.
Марина Викторовна, а осталась какая-нибудь нестанцованная роль?
Осталась - Китри. Но раньше очень строго относились к амплуа. Не станцевала
же Майя Плисецкая "Жизель", Катя Максимова - "Лебединое".
Очень жалею, что тогда не было у нас "Сильфиды". Но сейчас я
с удовольствием работаю над этими спектаклями с моими девочками.
Как вы считаете, повышенная требовательность к амплуа была оправдана?
Сейчас считается, что балерина должна танцевать всё - что-то более удачно,
что-то менее. У нас ведь Надя Грачева танцует и "Жизель" с "Сильфидой",
и "Баядерку", и "Дон Кихота" - и все ей удается очень
хорошо. С другой стороны, не у всех есть такие данные, и получается засоренность:
составов много, кто-то танцует партию хуже, кто-то лучше, но все балерины
имеют право на спектакль, коли хоть раз его станцевали. Никто же не возьмет
на себя ответственность сказать: "Ты в этой партии хуже других".
Поэтому у нас на каждый спектакль стоит огромная очередь балерин, а молодежи
сквозь них вообще не пробиться.
А что чувствовали вы, когда перед вами в той же "Золушке" танцевали
Семенова, Уланова, Лепешинская, Стручкова?
Я чувствовала теплое отношение. Раньше школа была при Большом театре.
Я с первого класса танцевала Белочку в опере "Снегурочка", па
де труа в "Щелкунчике", Фею-крошку, которая была в "Спящей
красавице", главного Амурчика в "Дон Кихоте". Мы с десяти
лет каждый день были заняты и в балетах, и в операх, поэтому нас все знали
и мы всех знали. И в театр после училища пришли как в родной дом. Старшие
нас опекали, оберегали, все объясняли, потихонечку вкладывали традиции.
И очень гордились, если молодая артистка из их уборной будет что-то танцевать.
Старшие балерины свое отношение к вам как-то проявляли?
Честное слово, не помню. Но у меня сохранилась масса газетных рецензий
на мои первые спектакли - писали Майя Плисецкая, Кригер, Лепешинская,
Суламифь Мессерер. Они приходили, делали замечания, высказывали пожелания.
В те годы критика была приятная - если что-то было недоделано, это отмечали,
но очень доброжелательно. Мне кажется, сейчас критики не совсем компетентны
в классической школе: они не могут указать, что та или иная поза не соответствует
стилю партии… Когда я только начинала танцевать, то очень ждала рецензий.
Со временем сам тон изменился, а потом я вообще перестала читать, что
обо мне пишут - статьи стали либо слишком агрессивны, либо полностью похвальны.
Артисту они ничего не дают.
А чье мнение было для вас всегда значимым, кто заменял вам рецензии?
Конечно, мой педагог Марина Тимофеевна Семенова. Ей я обязана всем, и
ее авторитет для меня безграничен. Если бы она мне сказала, что на сцене
надо встать на голову, я бы встала. И когда я стала педагогом, с первых
же шагов всегда обращалась к ней. Иногда бывало так, что я показываю,
объясняю - а ученица не понимает, не получается у нее. Марина Тимофеевна
всегда подсказывала, на что обратить внимание.
Говорят, что за последние десятилетия очень выросла техника. Но знаменитый
фильм Клода Лелюша, в котором Иветт Шовире репетирует с современными этуалями
парижской Оперы, на мой взгляд, демонстрирует, что это не техника стала
выше, а изменилось представление о том, что такое танец.
Техника действительно стала другой, особенно если судить по Западу, -
раньше не такой чистой, отчетливой была мелкая техника, не было таких
больших прыжков, никто не далал тройных фуэте. А современные вращения
требуют очень прямого корпуса, жесткой спины, что не позволяет слишком
наклониться, перегнуться. Раньше танец был построен на выразительной пластике,
красивом рисунке, а сейчас, чтобы движение получилось, нужно спортивное
положение корпуса. Это больше похоже на гимнастику - в танце голова почти
неподвижна, очень мало каких-то вдохновенных поз, романтизма. И все-таки
в русском балете все смягчено - сохранились живое тело, живые руки. Марина
Тимофеевна научила меня придавать большое значение красоте линий, правильности
поз. Неправильно развернутая пятка, задранное бедро ломают рисунок. Меня
это угнетает, я сразу стараюсь это выправить. Но данные у всех разные:
одному надо развернуть ногу, другому - что-то совсем иное. Я стараюсь
концентрировать внимание на чем-то одном, и пока мы не устраним один недостаток,
не лезу исправлять другой. Поэтому меня порой раздражает, когда мне перечисляют
все ошибки ученицы сразу - я отвечаю: "Подождите, у нас до всего
дойдут руки, но не надо забегать вперед".
А с кем интереснее работать - с девочками, которые только пришли в
театр и еще ничего не умеют, или с балеринами, когда в ногах уже копаться
не надо?
Все равно надо! Все равно хочется что-то исправить, добиться более совершенного
исполнения. Но с балериной работать сложнее - у нее уже сложилась своя
индивидуальность, и нельзя чрезмерно вторгаться в ее стиль. Поэтому я
всегда обдумываю предстоящую репетицию. Но бывает, что предполагаешь одно,
а она приходит совсем в другом настроении - и перестраиваешься прямо по
ходу репетиции.
Как вы считаете, сейчас живы традиции Большого театра, которые воспитывали
в вас?
Я думаю, кто-то воспринимает их, а кто-то нет. Мне кажется, традиции рушатся,
потому что нарушена сама привязанность к театру, к этим стенам. Большой
театр был для нас самой важной частью жизни. Конечно, когда дома что-то
не ладилось, это отражалось на работе. Но пожертвовать ею ради быта, личных
дел было невозможно. И уехать, когда в театре некому танцевать, - тоже,
даже если это были какие-то престижные гастроли, где можно было себя показать.
Мы не боялись каких-то страшных санкций, просто нас по-другому воспитывали.
Но сравнивать себя с нынешним поколением артистов я не могу - мне трудно
представить себя внутри сегодняшней ситуации, потому что теперь жизнь
совсем иная, другие приоритеты. Раньше важно было иметь спектакли, а сейчас
говорят: "Я за эту зарплату не танцую". Когда мы пришли в театр,
нам всем назначили оклад 970 рублей - и такую зарплату я получала лет
семь, хотя танцевала уже много ведущих партий. На жизнь этого хватало,
а все остальное было не так уже и важно.
Для вас имеет значение, что делается в театре вокруг классов?
Я представляю, что происходит, слышу разговоры. Но стараюсь в обсуждениях
не участвовать.
Уже лет 20 Большой театр сопровождают разговоры о том, что он в кризисе…
Разговоров об этом очень много. Когда ми знакомые приезжают в Москву и
приходят на спектакли, они очень удивляются: "О Большом театре такое
пишут, что мы думали, он просто развалился! А у вас такая прекрасная труппа!
Замечательные спектакли!". Я прихожу в театр каждый день, даю класс,
весь день репетирую, иду домой - и только случайно узнаю, что где-то было
обсуждение, встреча, совещание, где обсуждали кризис в Большом театре.
Нас, людей, которые проработали здесь по 50 лет и больше - Марину Тимофеевну,
меня, Римму Карельскую, Раю Стручкову, Колю Фадеечева - никто не находит
нужным спросить, что об этом думаем мы. К сожалению, сейчас и в самом
Большом театре нет даже художественного совета.
Марина Викторовна, о чем бы вы говорили в первую очередь, если бы художественный
совет существовал?
На мой взгляд, в балетной труппе сейчас очень сложная ситуация: между
мастерами и молодежью образуется пустота, потому что те молодые, кто находится
на подступах к ведущему положению, уже несколько лет танцуют одно и то
же, а продвинуть их на балеринские партии нет возможности. Я согласна,
что наши звезды должны танцевать много, иначе они потеряют квалификацию.
Но, я считаю, у нас неправильная репертуарная политика: балеты идут через
день, а порой и каждый день, но в основном это "Жизель", "Сильфида",
"Тщетная предосторожность" - спектакли для двух-трех солистов.
А такие большие балеты, как "Лебединое", "Дон Кихот",
"Баядерка", "Раймонда", "Спящая", где занята
сразу вся труппа, появляются редко.
В последние годы в Большом театре появился такой спектакль, который
произвел на вас большое впечатление?
Пожалуй, из нового мне очень понравился "Русский Гамлет" Эйфмана.
Жаль, что он сейчас не идет: эта своеобразная хореография, с которой раньше
никогда не приходилось сталкиваться нашим артистам, давала много возможностей
для их роста. Другой интересный балет - "Дочь фараона". Мне
кажется, если его сократить, он будет очень хорошо смотреться.
Сейчас наш репертуар пополняется в основном за счет спектаклей, которые
мы давным-давно знаем в исполнении других трупп. Они поставлены несколько
десятилетий назад, когда танцевали иначе. Поэтому в них нет того аромата,
который был первоначально. Из-за этого спектакли теряют первоначальный
замысел и силу воздействия. Конечно, театр у нас не экспериментальный,
но, думаю, нужно искать хореографов, которые могут ставить балеты специально
для нашей труппы. Очень хочется надеяться, что удача ждет "Светлый
ручей" Ратманского, за репетициями которого я в последнее время с
интересом следила.
"Культура", 2003, № 16, 24 апреля.
|